

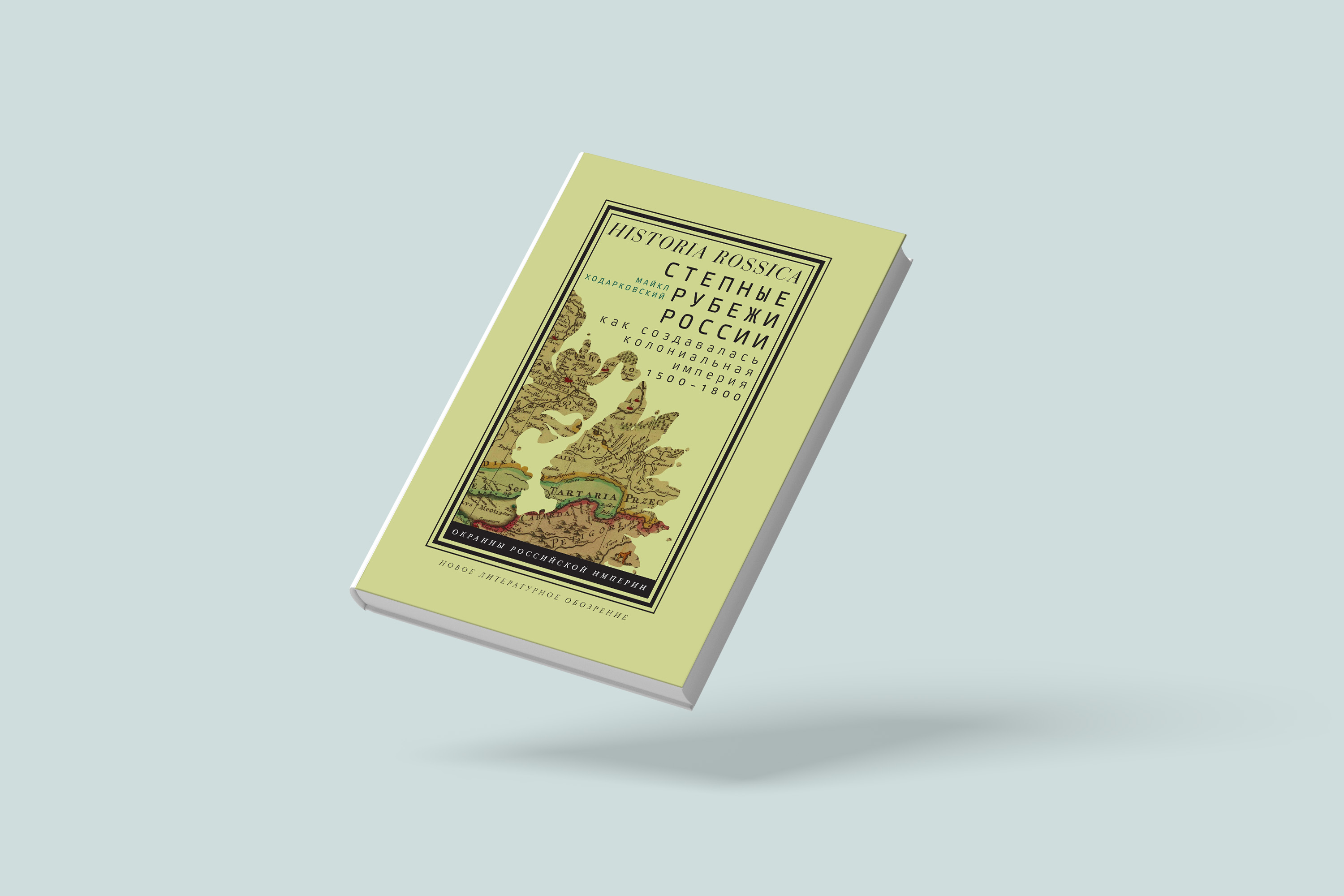
Майкл Ходарковский — американский историк российского происхождения. В книге «Степные рубежи России» он исследует, как Российское государство в течение трех веков последовательно и целенаправленно превращало степные территории Евразии в зону колониального подчинения. Опираясь на архивные материалы из России, Украины и Турции, автор пытается восстановить историю, о которой не принято говорить.
Майкл Ходарковский посвятил десятилетия изучению одного из самых непроговоренных сюжетов российской истории: как в период формирования Московское государство, а затем и Российская империя превращали свои южные и восточные границы в зоны контроля. В эпоху, когда модно говорить о геополитике, часто забывают, что за этим словом часто скрываются насилие, ассимиляция и вытеснение. В «Степных рубежах России» показана не столько политическая хроника, сколько масштабное исследование российского фронтира — границы, на которой сталкивались Москва и степь, христианство и ислам, оседлость и кочевничество.
Ходарковский исследует три столетия, с XVI по XVIII век, когда Россия вела неустанную кампанию по присоединению степных территорий — сначала ради безопасности, затем ради экспансии. За сухими терминами «освоение» и «установление контроля» скрывается серия систематических вторжений, разрушений традиционного уклада жизни тюркских, финно-угорских и кочевых народов, насаждение административной вертикали и лояльности Москве. Ходарковский без прикрас показывает, что речь шла не об обмене, не о диалоге культур, а о колониальной логике.
Одной из главных заслуг книги становится деконструкция колониального языка: тот самый «дикий» юг, «необжитые» земли и «враждебные кочевники», с которыми «цивилизованная» Россия якобы должна была справляться. Кочевники, по мнению Москвы, были одновременно угрозой и объектом миссионерской заботы. Ходарковский анализирует, как русские представляли своих степных соседей: как азиатов, мусульман, чуждых и диких. Но, в отличие от расовой иерархии XIX века, до XVIII столетия расовые различия воспринимались с меньшим напряжением, ключевым считалось культурное различие (религия, оседлость, политическая структура).
Российская политика экспансии касалась регионов с собственными политическими структурами, экономикой и культурой: калмыцких улусов, башкирских земель, татарских ханств. Они были не пустотой, а пространствами, населенными субъектами, которые вели переговоры, заключали союзы, сопротивлялись и уступали. Автор подчеркивает, что степь не была ничейной территорией, как это изображал, например, американский историк Уильям Макнил, — напротив, у нее была сложная социально-политическая структура. Термины «освоение» и «защита» в этом контексте звучат все более лукаво.
Так, автор приводит эпизоды, когда царская администрация открыто нарушала договоренности с калмыками, используя разобщенность между правящими родами, чтобы стравливать их друг с другом. Или как башкиры, заключившие в XVII веке соглашение с Москвой, были спустя пару десятилетий поставлены перед фактом утраты автономии, что вызвало серию масштабных восстаний — в 1662 году и позже, в 1735–1740-м.
Первоначально, с конца XV века южные рубежи рассматривались как зона риска, защита от татарских набегов, особенно крымцев и ногайцев, была ключевой задачей. Но со временем тактика изменилась: от засечных черт (оборонительных сооружений из поваленных деревьев) перешли к активной экспансии. Ходарковский показывает, что экспансия России не была хаотичной или спонтанной. В ней была четкая система. Сначала военные форпосты, затем — переселение служилых людей (преимущественно русских), после — административное закрепление власти в лице наместников и судей и активное вовлечение казачества. Ходарковский не отрицает военной составляющей, но делает акцент на идеологическом и административном аспектах, которые вызывали сопротивление коренных народов.
Так, в XVII веке Оренбургская линия укреплений стала ядром «вторжения цивилизации» в Башкирию. Но результатом этого стало не мирное сосуществование, а почти беспрерывная череда восстаний. Сама Россия в это время изменилась, приобрела черты империи, подчинившей себе разнообразные народы, но не допустившей их к равноправному участию в жизни страны.
Ходарковский использует архивные источники, искусно соединяя их с современными теоретическими подходами, в частности с постколониальной критикой. Его анализ не ограничивается военной историей или дипломатией, автор показывает, как в имперский проект включались экономические интересы, религиозная миссия (православие как инструмент просвещения и подчинения) и даже хорошо знакомая нам риторика защиты.
Особенно ценно в книге внимание к подчиненным народам. Ходарковский отказывается воспринимать их как безликий «инородческий фон» для русской истории. Он пишет о сложных союзах, сопротивлении, уступках и стратегиях выживания. Калмыки, татары, башкиры не просто объекты политики, но субъекты с собственной логикой действий.
Например, казаки играли двойную роль: как «дикие» союзники в войнах со степняками и как инструмент насильственного насаждения русификации и оседлости. Они создавали поселения, становились посредниками между Москвой и туземным населением, а позже превращались в часть имперской машины. Все это сопровождалось распространением православной миссии, подавлением местных языков и попытками ассимиляции.
Важен вывод работы Ходарковского: именно южные и восточные рубежи сформировали облик России как колониальной державы. Здесь отрабатывались модели управления, подавления и идеологического оправдания — все то, что впоследствии применялось на Кавказе, в Сибири, Польше, Центральной Азии. Россия стала империей не по стечению обстоятельств, а в результате целенаправленной внутренней политики, в которой колонизация соседей подавалась как самооборона.
Цитата из предисловия говорит сама за себя: «Москва была решительно настроена избежать судьбы Рима и Константинополя и не жалела усилий на сохранение и защиту своей империи от тюркских и монгольских кочевников… Конечно, сперва Москва должна была создать эту империю». В этом «сперва» — весь парадокс и вся правда. Без завоевания и подчинения соседей никакой защиты быть не могло. Эта идея слилась с миссией цивилизаторства: колонизация степи представлялась как «обязанность» христианской державы.
«Степные рубежи России» — это вызов тем, кто называет колонизацию освоением, а подчинение — восстановлением исторической справедливости. И этот вызов звучит особенно актуально сегодня, когда границы, народы и голоса снова становятся объектами насилия во имя «цивилизационной миссии».
Ходарковский не идеализирует и не демонизирует, он реконструирует. Его сильная сторона — в скрупулезной работе с источниками и отказе от морализаторства. Но именно эта холодная аналитичность позволяет сделать главные выводы книги особенно весомыми.
Россия стала империей не потому, что «так сложилось», а потому, что целенаправленно стремилась к этому статусу, используя те же методы, что и другие колониальные державы. И чем раньше мы начнем говорить об этом честно, тем скорее сможем выйти из тени имперского прошлого.
Литература по теме

